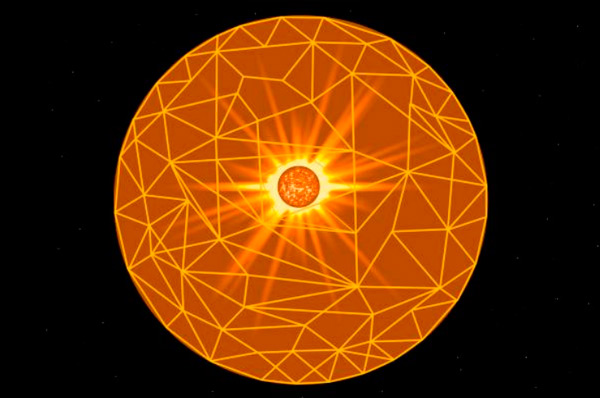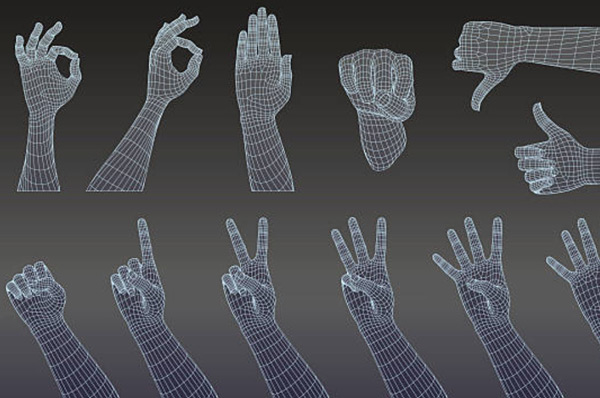Ни в тревожной дали чудес, ни в ухмылке случайности, ни в слепом лице неизбежности, ни в темной бесконечности вселенной, ни в звездной алгебре, ни в пенье неба и лесов, ни в самом факте существования мистики — нигде до сих пор не прозвучал людям голос потустороннего. Небо молчит.
Известны теологические доказательства бытия Бога. Общее у них — рассуждения, построенные либо на софистике — подмене двусмысленных, но внешне сходных понятий, либо, что чаще, эти рассуждения основываются на бессознательной, непродуманности понятий об истине, законе, случайности, фантазии, морали, цели, причине, пользе, бесконечности и т.п.
Но чудеса сами нуждаются в доказательстве.
Теологи признают, что восприятию разума доступно лишь потустороннее «подобие бытия» божия, отчего доказательства сверхъестественного глубоко отличны от научных: за основание принимают то, что собираются доказать, и поэтому они должны покоиться на вере, озарений откровения.
Гностическое опровержение, самое первое, бытовое: Бога никто не видел. Как ответил Лаплас Наполеону: он обследовал все небо и нигде не нашел Бога. Образованные мистики соглашаются: Бог невидим.
Логическое опровержение наиболее популярное — указание на нелепость мистики — противоречие сверхъестественного нашему разуму и опыту. Сверхъестественность отрицают за его сверхъестественность.
Теологи отвечают: современная наука тоже опирается на противоречивые понятия, например, в теории относительности, теории квантов или теории элементарных частиц. Или ссылаются на возможность явлений, противоречащих нашему разуму и опыту. Практическое опровержение: сколько ни молись, сколько ни колдуй, толку нет. Ни желания, ни приметы не сбываются, разве изредка случайно и в границах естественного.
Народ выразил этот опыт в пословицах, вроде: «Молитвой квашни не замесишь». Или «Сколько ни молилась Фекла, Бог не вставил стекла». Как бы пламенно, трогательно и убедительно человек ни взывал к Богу о помощи, как бы, распростертый на земле, ни плакал, рыдал и ни корчился от боли, его мольбы остаются без ответа, он даже не узнает, дошли ли они до Бога. Тысячи лег молитв и колдований — и ни одного ответа.
Многие ученые прошлого писали о феномене сверхъестественного. На арабском Востоке — Ибн-Сина (Авиценна), Ибн-Рошд. В Западной Европе — Френсис Бэкон, который выводил из этого, что науке нечего делать в богословии, потому что религиозные догматы недоступны разуму, а только вере, но богословие пусть не вмешивается в науку. Мысль о бездоказательности и мистики и атеизма разделял Паскаль. С особым критицизмом развивал эту идею Кант: разум бессилен показать ни за, ни против трансцендентного, потому что не может «выйти за пределы мира», нам доступно лишь нравственное доказательство Бога. Мысль о недоказуемости и неопровержимости мистики встречается и у Льва Толстого, и у профессора П. Светлова, и у епископа Феофана, и у известного философа-теолога С. Булгакова.
Ученый Макс Планк мировые законы считал не изобретениями человеческого разума, а объективностью. Но вопрос о реальности сверхъестественного: «пребывает ли высшая сила, которая стоит за религиозными символами и придает им смысл, исключительно в сознании человека, вместе с которым она и угасает, или она представляет нечто большее?» — этот «принципиальный, разделяющий мыслителей» вопрос, по мнению Планка, «ни за что не поддается решению научным путем — что называется — логическими основанными на фактах умозаключениями. Напротив, ответ на этот вопрос есть дело единственно веры.
После Лютера, проклявшего разум — «потаскуху дьявола», начиная со Шпеера и Шлейермахера, протестантские апологеты тоже держатся идеи двух «непересекающихся плоскостей» — рациональной науки и иррационального откровения.
Вместе с разумом Хайдеггер и Сартр отвергли и попытки рационального открытия Бога, за что даже прослыли «атеистами». Но и Хайдеггер, и склонный к католицизму Марсель, и к протестантству Ясперс, и многие другие экзистенциалисты тем не менее отстаивают «ту сторону», таящуюся за шифром христианских мифов и открывающуюся лишь чувству.
Дуалистский скептицизм свойствен даже современному позитивизму. Позитивисты проверяют истинность идей так называемой «верификацией» — сравнением предложений с чувственными данными. Но идеи теологии не с чем сравнивать. А поэтому для них и мистика и материализм равно «бессмысленны».
Но дуалистский скепсис не ограничивается философскими сферами. В дуалистическом агностицизме выделяется два ключевых вопроса:
1) об отношении мистицизма и атеизма к науке;
2) о неопровержимости непознаваемого (его недоказуемость пусть заботит святую апологетику).
Атеизм вовсе не отрекается от обычной, человеческой веры. Его отличие и противоположность мистике совсем не в этом, а в том, что атеизм — вера не слепая, а основывающаяся на знании и практике.
В наше время прогресс науки заставил теологию сменить анафемы ей на дифирамбы, выставляя себя чуть ли не ее извечным другом, распинаясь о гармонии разума и откровения, ибо оба они дар божий. В подтверждение их совместимости обычно ссылаются на религиозность многих выдающихся философов и ученых — таких, как Кеплер, Лейбниц, Ньютон, Локк, Вольтер, Руссо.
Но это соединение в одном сознаний мистики и естественного знания означает не гармонию их, а противоречивость такого сознания. Сознание какого угодно интеллектуала не застраховано от противоречий. Многие люди могут сейчас говорить одно, а через минуту противоположное и не замечать их взаимоисключаемости.
Мистика не просто незнание или заблуждение, а превратное представление, порожденное производственно-общественным положением человека — его слабостью и порабощенностыо.
Но, поскольку это практическое бессилие человека едино с его теоретическим бессилием — незнанием — в том, что касается его превратного бытия, — мистика антинаучна. Все вековые усилия мыслителей-идеалистов примирить мистику и науку доказали прямо противоположное: если сверхъестественное, непознаваемо и, следовательно, познаваемо только естественное, то мистика — вне науки. Вся природа подсудна только науке, а теологии остается самой.
Противоположные истоки и существо веры в естественное и веры в сверхъестественное приводят к их противоположному значению для человека: атеизм питает дерзость и активность, а мистические чары сковывают души и дела смирением и пассивностью — фактической, — потому что колдования и молитвы остаются неудовлетворенными. Мистика в губительных условиях заменяет реальное действие иллюзорным, оставляя человека реально в бездействии, плывущим по течению, успокоенного пустой надеждой. Она, как опиум, дает забвение боли, но вместе с ней — и необходимости действительного лечения.
Со вступлением истории в эпоху классовых антагонизмов это противоположное значение мистицизма и атеизма не могло не обусловить их противоположную общественную роль. Религии — буддизм, христианство, магометанство — возникли в мире отчаяния, в нестерпимом настоящем и еще более грозном будущем — в качестве «потустороннего» «возвышения» растоптанных здесь. Оттого-то небесное освобождение раба оборачивается отличным средством его земного угнетения. Религия угнетенного становится церковью угнетателя.
Преследование инквизицией Кампанеллы, Галилея, Бруно, Декарта, Спинозы и других свободомыслящих ученых, удушение науки, искусства и промышленности устрашающими казнями и тайной слежкой этого позора святым спасителям человечества не замолчать. Конечно, жестокость церкви к подлинным ученым вызывалась ее страхом за свои привилегии. Реакционность церкви — это реакционность слитых с ней господствующих классов. Всюду, где духовенство, католическое, протестантское, обладало политической властью, оно свирепо расправлялось с еретиками, то есть теми, кто осмеливался протестовать и восставать против существующих порядков и угнетения. Неважно даже, атеисты они или религиозные. Важно, признавали они права клира на власть и богатство или нет. Если нет — их замучают, будь они набожны, как сам Иисус. Однако эта травля находила сочувствие и среди паствы, потому что верования, поднимающиеся из смутного страха, отличаются известной устойчивостью в отношении всякого от них отступления.